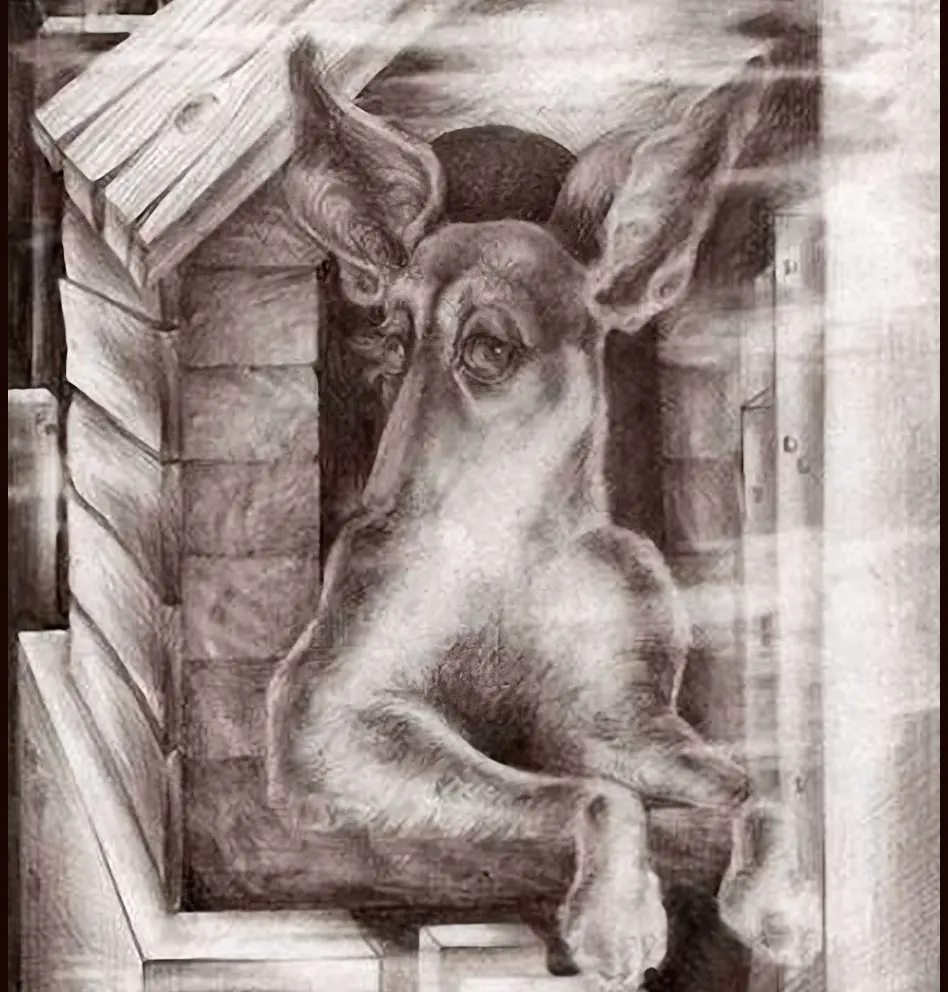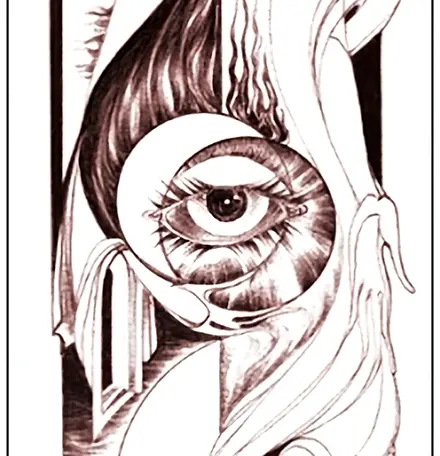Азбука Бога
Эссе о праязыке
1.
Во времена пребывания на Высших литературных курсах в Москве я не слишком часто – не было денег, – посещала Дом Литераторов, столь непредвзято описанный ещё Булгаковым, в наивной надежде, что обрету в его стенах если не сочувствие своему литературному призванию, то хоть какого-нибудь спонсора, который всё это призвание нечаянно и бескорыстно издаст. Мои иллюзии были, естественно, абсолютно беспочвенными, – ЦДЛ со времён Булгакова не претерпел изменений, и так и остался местом профессиональной литературной пьянки и уютно оформленным клубом для завершения сделок, предварительные условия которых рассматривались в совсем иных коридорах. Мама, оставшаяся в Челябинске, не однажды со студенчески-ностальгическим чувством поминала этот дом добрым словом, и я поэтому продолжала искать в его стенах какого-нибудь нечаянного тепла, которое коснулось бы и меня.
Спонсоров для меня не находилось, зато в кафе бывали замечательно нежные пирожки с чем-нибудь, и временами пахлава, о которой я не знала, что она такое, пока здесь же не отважилась впервые попробовать. И, конечно, по-настоящему натуральный и крепкий кофе в предперестроечной Москве был возможен только тут – двойной, тройной и любой другой необходимой кратности, и без тени недовольного недоумения продавщиц. Цэдээловский персонал, давно перестав удивляться чему бы то ни было вообще, выработал профессионально философское отношение к жизни в целом и к весьма буйному пишущему контингенту в частности: особо морально-неустойчивых и многолетне-запойных величали по-матерински поименно. Я же принадлежала к небуйным, безымянным и явно временным, поэтому кофе мне подавался без особой участливости, но всё же не по-советски корректно, и горло непрошено теснил благодарно-горделивый ком жгучего и непривычного осознания, что и я способна по эту сторону прилавка оставаться человеком, и даже более того – кто-то, кроме меня самой, с этим согласен настолько, что не испрашивает взамен дополнительных заслуг перед отечеством, званий и прав, а вежлив хотя бы профессионально. И это приручало больше всяких спонсорских иллюзий и окололитературных чревовещаний вокруг бутылочных батарей, и даже больше пахлавы. Подозреваю, что корни маминой ностальгии ютились именно в этом чувстве никем не оспариваемого достоинства, воспринимавшегося обездоленными советскими гражданами почти как право на вторичное рождение.
Один посвящённый пахлаве вечер подарил мне встречу, запомнившуюся пожизненно и давшую ощутимо зримые следы в восприятии мира. Я до сих пор подозреваю, что эта встреча – единственное, что может оправдать два года бессмысленнейшей отсидки взрослого члена писательского союза на инфантильнейших литературных курсах.
2.
Передо мной упрямо терпела очередь худая замкнутая дама злонамеренного вида в возрасте, уже не имеющем полутеней. Она была перекрашена из рядовой интеллектуально-богемной москвички в египетскую жрицу самого тайного храма, лик её был магически бледен, а губы агрессивно-алой помадой превращены в крупный хищный рот для дурных предвещаний. Я, удивляясь столичной неистощимости на прискорбные человеческие типажи, сожалела о несбыточном в России Феллини, смотрела на женщину неотрывно и думала что-нибудь не очень хорошее про то, как бескомпромиссно жестока столица, истирающая людей, имевших когда-то индивидуальные естественные лица, до опустошённых масок. Жрицу, похоже, тоже интересовала преимущественно пахлава.
С кофе и пахлавой мы одновременно оказались в вечернем часе пик, переполненном хмельным рокотом голосов; литературный прибой гремел в узких стенах курзала, нас объединила необходимость со своими чашками и блюдечками куда-то присесть. Мы заземлились на окраине минутно опустевшего столика.
Жрица – из вежливости – поинтересовалась, как меня можно называть. “Татьяна”, – представилась я. Жрица что-то мгновенно вычислила, позже я поняла – что именно, и продлила вежливость вопросом о роде творческих занятий. “Пишу”, – добросовестно отчиталась я. “Поэт?!” – мрачнея, вяло поинтересовалась жрица, оценивая попутно мои метафизические самодеятельные одеяния. “Прозаик”, – поспешно запротестовала я против понижения ранга, а также, чтобы убедить в неотвратимо серьёзном отношении к миру – в московской литературной среде визитная карточка “поэтессы” по сию пору, и не без оснований, читается как литературный макияж сексуально неудовлетворённой особы, которыми ЦДЛ был оккупирован в переизбытке, а принадлежать к какому бы то ни было переизбытку мне никак не хотелось. Жрица бледно-синим оком пожилой весталки сняла с моих одеяний дополнительную информацию, и, согласившись внутренне, что подобное мог напялить на себя, конечно же, только прозаик, ещё более безумный, чем поэт, потребовала к моему имени какой-нибудь дополняющей расшифровки. “Вы меня не знаете. Я Тайганова.” – “Знаю. Сафари на льва. «Юность», девяностый год”, – определила жрица, и начала меланхолично пожирать пахлаву.
Это было первое и единственное за два года пребывания в столице добровольное подтверждение того, что кто-то меня читал и что я, стало быть, действительно существую, – передо мной пил четырёхкратный кофе живой свидетель моего творчества. И, замерев в шоке над собственным блюдечком, я заподозревала в свою очередь: “Вы – тоже?.. Пишете…” – “Нет, – брезгливо отрезала жрица. – Я открываю ПРАязык”. Чувствуя, как стремительно меркнет моё собственное призвание, и для того, чтобы не видеть удручающе яркого рта и больше верить услышанному, я, как в мандалу, уставилась в круг собственной тарелки. Жрица, прикончив пахлаву, добавила: “Тайганова – конечно, – псевдоним. Впрочем – неплохой. Думаю, что вам будет понятно”. И разверзлась.
Жрицу звали Наровчатская.
3.
Забыв про грядущих спонсоров, я на два часа вверглась в полную неподвижность и лишь спустя вечность слишком поздно дёрнулась за записной книжкой.
Двухчасовая исповедь о праязыке воистину была теургическим актом пересотворения мира, неудержимостью и страстью она походила на Ниагару, воображённую в священном неистовстве. Эта узкокостная цепкая женщина, обладая редкостной душевной выносливостью, решила самостоятельно доискаться до общих корней всех языков; она соединила в первичный ил санскрит, греческий, латынь и современные европейские языки, добавила к ним острые тюркские приправы и долго варила получившееся по принципу русского борща, куда закидывается любое пригодное, лишь бы стало что есть и чем насытиться; на это блюдо ушли, возможно, десятилетия, она не сдавалась, её отовсюду гнали, клеймя дилетантством, указывая на неакадемичность и зацикленность на метафизическом Боге, совсем не почитаемом в доперестроечной совковой России; она терзала себя и других упрямыми усилиями, отсеивая из всех речевых рядов уводящие от цели механизмы префиксов, суффиксов, флексий; признавая за ними строительные права уже рождённой языковой структуры, но, тем не менее, вовсе не считаясь с морфологией как с основой основ. Здраво предполагая, что первобытный звукоряд должен был предшествовать всякой морфологии, право пребывать всерьёз она оставила лишь корням слов, а из слов выбрала лишь основополагающие, слова-патриархи типа земли и неба, мужчины и женщины, начала и конца, жизни и смерти.
Основы должны были неминуемо раскрыть иное; материальное приоткрывало настойчивой жрице нематериальное, не слишком, однако, мирно соседствующее с принципами точной науки. Потрудившись ещё пятилетку-другую, Наровчатская оставила лишь орнаментально повторяющиеся фонемы, а в фонемах – неизменно и неизбежно сопряжённые друг с другом основные звуки. Прокарабкавшись из материализованного мира слов до начальных вибраций, она решила, наконец, затормозить, чтобы вполне обозримому звукоряду, присущему, с её точки зрения, всем мировым языкам, дать свои индивидуальные разъяснения и произвести необходимый перевод с современного языка на праархаичный. Звукоряд ей, как и Менделееву, приснился – в образе таблицы, в виде столь же отчётливой, не терпящей никакого беспорядка, схемы, составленной Богом. Я спросила, как ей удалось наутро пережить осознание собственного видения, она ответила, что до сих пор этого не понимает.
Наровчатская рассказывала, как сунулась со своим звукорядом к академику Лихачёву и получила от него суровый академический отлуп, перекрывший всякие серьёзные пути к публикациям. Я же лишний раз убедилась, что если хочешь что-то всерьёз постичь, то необходимо лишь одно – бессменно и без праздных выходных оставаться метафизиком, даже если чувствуешь себя при этом последним Робинзоном на последнем во Вселенной острове; нужно знать лишь своё скромное, но священное место и понимать себя, как работника Бога в его винограднике, и не быть там, однако, лисой. Наровчатской управляла непокорность и твёрдое знание, что Бога бессмысленно подвергать сомнению и тогда, когда в метафизике бытия сомневается хотя бы и величественный Лихачёв. Отныне было безразлично, насколько “обрывочно”, “эклектично”, “вторично”, “безумно”, “безграмотно” – и что там ещё – открытие мира этой необыкновенной женщиной, ибо ничто во мне не пожелало усомниться в её чарующих выводах. Можно, стократно переворачиваясь и переворачивая, доказывать, что её этимология тысячи слов ложна, – эту женщину интересовали не слова во плоти, а одухотворяющие их понятия; слова же были разобщённой рудой, из которой предстояло извлечь суть, начальные связующие свойства и связи; пусть кто угодно рвёт в клочья эти хоть и приблизительные, но – возрождённые – связи; можно упираться рогами в Великую китайскую стену и в гневе и пене доказывать, что стена сложена плохим строителем из глыбных пород понятий, никогда не соседствовавших и скреплённых лишь неубедительной силой наития, – стена до неба всё равно останется чудом Бытия. И в любом случае Наровчатская в одном безусловно права – праязык должен существовать, раз существуем говорящие мы, и должны наличествовать в языке энергии, связующие множество уже неразличимых и неслышимых первопонятий в каждом речении; энергии, бесцельно поглощаемые нами без понимания, не замечаемые так, как незамечаем ежедневный ток крови в наших телах.
4.
К сожалению, в моей памяти осталось лишь единичное. Рискуя многократно ошибиться, я всё же делюсь тем ничтожно малым, что удержалось после торжественной лекции, прочитанной в самом неподходящем для неё месте – в перепившемся до траурной скорби курзале Центрального Дома Литераторов Наровчатской Людмилой Борисовной – таково её полное гражданское имя. Возможно, что её труд был уже где-нибудь опубликован, скорее всего, – за границей, – я об этом ничего не знаю, и, признаться, уверена, что даже если это и так, то вряд ли на такую книгу найдётся широкий российский читатель, ибо мы все уже давно откровенно глухи к истине языка и печально безграмотны, а нынешнее время нисколько не способствует изменению нашего восприятия в лучшую сторону. Поэтому делюсь теми приключениями понятийных словесных ядер, которые могу извлечь из собственной памяти.
Помню, что имя АННА, наиболее частое и желанное в европейских языках, возрождаемое в разных транскрипциях (ХАННА, АННИ, ЭНН и так далее), предпочитаемо родителями, ищущими новорождённому младенцу имени, совсем не случайно – выбор их глубоко интуитивен. И не только потому, что это созвучие удивительно удобно для произнесения единым легким выдохом, никого не принуждающим к усилию, а по внутреннему инстинктивному убеждению в соответствии имени его скрытой сути, ибо в нем дважды – туда и обратно, и к терниям, и к звёздам, – сопряжены в единое два первичных звука: “А” – распахнутый во все пределы материальный мир продолжающегося творения и рассеивания, и “Н”, символом которого можно определить “Нутро”, – всё, связанное с жизнью, сохранением и животом. АННА – имя открытого земной женщине материнства – вбирания, созревания и рождения. Это имя было невольно и тихо избрано мной однажды для моей дочери, которая когда-нибудь родится, пусть даже и не у меня или не в этой жизни; лишённое цветовой сочности, яркой плоти, лапидарное в своей простоте, не имеющее даже конкретного образа, имя АННА пребывало во мне лет с шестнадцати; оно было невещественно, ни за каким лицом не закреплено, и до сих пор среди моих знакомых нет ни одной АННЫ. Это имя принадлежало как бы всему материальному, женственному миру сразу, как принадлежит без всякой двуличности спадающий с неба дождь. АННОЙ в череде моих предков звали одну только мою бабушку, мать моей мамы; не только я не видела бабушки живой, но и мама припоминает её смутно и слабо, так как осталась с восьми лет сиротой.
Помню, что йот – “Й краткое” (в латинской транскрипции “джей”, в русской – как вариант – “Ж”) – есть собирающий центр; и что наша столь любимая ненормированной естественно-бытовой речью “Жопа” есть отныне не простая круглая выпуклая задница, неиссякаемый предмет насмешки и высокомерия прочих не столь округлых органов, и не просто соединение в сомнительный купол бесполезных, с точки зрения не-врача анатомических мышц, а некая спираль, вбирающая собою энергии вокруг невидимого центра. Это сегодня, десять лет спустя после рухнувших границ идеологии, мы грамотны – хотя бы в назывном качестве – в отношении основ восточной метафизической анатомии человека, разъяснившей русскому любопытному гражданину, что за чудовища такие “муладхара” и “кундалини”, организующие и преобразующие, как оказалось, в каждом из нас космические энергии в энергию созидания и органической жизни. В девяностом году такого рода интригующие подробности знали немногие, поэтому Наровчатская, не эксплуатируя таинственной Азии, объяснения свои продлила в пределах русского языка: Жулик, Жадина, Жмот, Жид, обЖора, Жлоб, – это кроме целого гнездового ряда слов с корнем “ЖОР”. С “Ж” связана и позитивная, дарящая, отдающая концентрация энергии, а не только поглощающая и присваивающая, хотя бы, например, Жалость, которая, впрочем, родственна тоже не чему-нибудь, а “Жалу”.
Расшифровка физиологических тылов затянулась надолго – звук “З” – вторая ипостась пресловутого “Ж” – обозначила тылы более отвлеченно материальные, и оказалось, что подмосковная РяЗань обозначает всё ту же часть человеческого тела, что попутно подтверждено и графическим оформлением этого звука в письме. По утерянному смыслу “З” обозначает “Зады” – крепость, невидимый родовой скелет; равно как и сам предлог “ЗА” символизирует собою все то же самое – последний рубеж, находящийся за спиной; предел, требующий от человека беспрекословной защиты и последней крови, и смыслом нашего человеческого униженного зада вдруг оказался благородный щит бодрствующего воина, в связи с чем я некстати вспомнила рекомендации из учебников по гражданской обороне улечься на землю на карачках при ядерном взрыве, выставив тот самый щит к его эпицентру. Медики знают, что столь трагикомическое положение тела при угрозе лучевого поражения действительно способно при благоприятных (?!) обстоятельствах предохранить все прочие органы, в том числе и самые в такого рода ситуации ценные кроветворные.
Помню, что Ракета не случайно обозначена в языке именно “ракетой” – в выборе неологизма поучаствовал верховный бог Солнца древних египтян “РА”, за которым в законном порядке последовал верный вооружённый воин – звук “К”, обозначающий в таинственном звукоряде Наровчатской завоевателя, Коня, культ всадника, – воителя Вселенной.
Помню, что местоимения “ТОТ” и “ТА” оказались непосредственными и ближайшими родственниками богу ТОТУ, и ещё, разумеется, – Тьме; древние предпочитали вообще говорить не только друг о друге, но даже о самих себе в третьем лице, упоминая же отсутствующее лицо, не называли его имени вслух по мистическим соображениям, – это я знала ещё из традиций американских индейцев. Указывая на него, наши прапрапредки сообщали друг другу, что пошёл по своим делам не “тот, который”, а именно “Тот”, и не “та, которая”, а “Та”, то есть – человек, уподоблённый своим скрытым душевным естеством самому Богу. Наровчатская подчеркнула, что бог Тот присутствует именно в указательных местоимениях, и я внутренне согласилась с такой логикой – а где же ему расположиться ещё, чтобы постоянно напоминать своему творению о его божественном происхождении? Во многих словах основа бога Тота неоднократно демонстрирует своё присутствие, как, в частности, и именах, в том числе и в имени “Татьяна”, и Наровчатская заставила меня самостоятельно перевести его с общеупотребительного языка на глубинный понятийный звукоряд. И получилось, что в этом имени слитно сосуществуют две ипостаси бога; собирающий, втягивающий “Йот”; направленный в недра материи “Н”; а вся эта сконцентрированная, “от бога” идущая, им подаренная и организованная энергия в итоге выплёскивается в безграничное пространство внешнего материального мира, его преобразовывая, – в “А”. Покорённая столь глубинным осуществлением собственного имени, я внутренне пообещала себе всячески пытаться ему соответствовать, Наровчатская же торопилась отдёрнуть покровы тайны с начал мироздания.
Помню, что “МА” есть пракорень всего материнского начала, не того, которое явлено в имени “АННА”, открытого всем влияниям и ветрам, теплого и лёгкого имени земной материи, а начала высшего и прапрарождающего. Отсюда, соответственно, “ТЬМА” есть тот “ТОТ”, который и был в начале всех времен, как праматерь, праматерия, пракрити индусов, мира. Отсюда же закономерно воспоследовала обжигающая догадка, что “Магия”, независимо от цвета кожи, чёрной или белой, – естественная, природой заложенная принадлежность женского существа.
5.
Озабоченная тогда проблемами личного морального выживания и хоть какого-нибудь признания, пусть – даже и не литературного, а хотя бы просто человеческого, я жаждала получить от ближних и дальних глоток тепла, который придал бы уверенности в себе и силы дожить до скончания курсов, литературных и высших. Естественно, я была слишком далека от серьёзной метафизики, – литература такого рода просачивалась сквозь книжные развалы в девяностом году ещё неглубоким родником, вызывающим к тому же массу неоправданных подозрений, и, чтобы всерьёз решиться войти в этот родник, мне, как и многим моим соотечественникам, понадобится ещё несколько лет. Но уже был очевиден глубинный труд и справедливое стремление Наровчатской доискаться до истоков слова, и сколько же ей пришлось перелопатить руды, чтобы вычленить хоть несколько принципов в качающейся архитектуре понятий!
Первопонятий оказалось не так уж много: солнце и небо, человек – мужчина и женщина – и чадо, их малый младенец; Мать и Отец, жизнь и смерть, материя и дух, свет и тьма; и, конечно же, материально рассеянные по миру намеки на божьи имена и на признаки творения – собирание и рассеивание, созидание и разрушение; движение и покой, космос и хаос, рождение и распад, – вот и весь, пожалуй, основной круг вместе с началом мира и его итогом, вылившийся в дуалистическую, противопоставленную таблицу мироздания, родившую понятийный звукоряд. Немного, зато то, – и только то! – без чего ничего быть вообще не может. И неважно было, что в этих переделах и смыслах останется истинным, чтобы когда-нибудь стать академичным даже для Лихачёва, а что сможет послужить лишь дополнением истины, ибо чему-то вполне возможно найти и иные объяснения, далекие от вариантов Наровчатской. Другое возможно почти всегда, однако сам этот круг первопонятий – единственен и не подлежит вариациям. Для меня имела значение сама попытка предъявить населению земли очередной вечный двигатель – нахальные усилия одиночки осознать всю человеческую речь ради её истоков. И исповедь о праязыке я восприняла настолько, насколько может оказаться бесповоротным любой доверительный намёк на ещё один путь к единственной родине человека, – той, что существенней всех смертей и рождений; указатель, затерянный в завалах терний и выстраивающийся лишь ими; тайна, которая неминуемо призовёт человека от любых настигнутых им сияний на сиротскую землю, туда, где терпеливо ожидает его внимания всё малое.
* * *
Мы встретились через месяц, случайно, в курящихся дымными клубами кулуарах ЦДЛ, неуверенно поздоровались, и Наровчатская подарила с трудом изданную монографию, почему-то вдруг о “Слове о полку Игореве”, но продолжения меж нами не получилось, – к жрице подсел беседовать какой-то именитый местный контингент и заговорил тем снисходительно-терпящим тоном, которым по необходимости и вынужденно разговаривают с малыми и неразумными, или же с людьми, безнадежно заблудившимися в пустопорожнем истощающем лабиринте, и жаль теперь их, блуждающих не там, где положено. Жаль человека, хоть и бабу, и не совестно же ей жить среди разумных.
Впредь мы кивали друг другу с дальнего расстояния, и по непонятной дурной логике невозможно было шагнуть ещё раз за пределы отстраняющей жреческо-дамской столичной маски и дослушать про культ всадников и мистическую тайну франко-итальянского артикля “ЛА”, в Европе употребляемого перед именем существительным (ЛА-Рашель, ЛА-Скала), а у русских, которые, как известно, всё делают с точностью до наоборот, и в этом тоже, видимо, пребывает некая тайна, это самое “ЛА” – “Л” почему-то поселилось в суффиксах и преимущественно в глагольных окончаниях – “молчаЛА”, “спешиЛА”, “терпеЛА”…
Подаренное “Слово” потерянно осело в челябинских полках с книгами, я не смогла в нём никуда прокарабкаться; подруга Вита Фролова, осваивавшая тогда первый курс литинститута, носила его своему профессору Горшкову, большому специалисту по старославянскому языку, и тот не нашёл в нем открытий, заявив, что всё наровчатское нарочито, надумано, притянуто за уши и глубоко безграмотно.
Слава Богу, я не обременена профессорскими познаниями, хотя вполне способна допустить тотальную безграмотность в каждом из нас; вопрос отличий заключён, видимо, во внутренней ориентации на признание верховенства законов либо материальных (в том числе и материи слова), либо – мистических и внематериальных. Жрица Наровчатская избрала второй путь, и я никогда не соглашусь, что это путь невежества. Сравнение великолепного Даля, при составлении своего словаря всей кожей ощущавшего величественную магию слова, с очень грамотным Фасмером, разложившим слово в гастрономически-этимологические конструкции, лишний раз убедило в том, что эволюционно качественные скачки в сознании – то, что мы ошибочно называем “революциями”, – совершаются либо дилетантами, которые не знают, что чего-то ни в коем случае нельзя, потому что так не велели Лихачёв или Фасмер, либо боговдохновенными поэтами.
Наровчатская была поэтом.
Во времена пребывания на Высших литературных курсах в Москве я не слишком часто – не было денег, – посещала Дом Литераторов, столь непредвзято описанный ещё Булгаковым, в наивной надежде, что обрету в его стенах если не сочувствие своему литературному призванию, то хоть какого-нибудь спонсора, который всё это призвание нечаянно и бескорыстно издаст. Мои иллюзии были, естественно, абсолютно беспочвенными, – ЦДЛ со времён Булгакова не претерпел изменений, и так и остался местом профессиональной литературной пьянки и уютно оформленным клубом для завершения сделок, предварительные условия которых рассматривались в совсем иных коридорах. Мама, оставшаяся в Челябинске, не однажды со студенчески-ностальгическим чувством поминала этот дом добрым словом, и я поэтому продолжала искать в его стенах какого-нибудь нечаянного тепла, которое коснулось бы и меня.
Спонсоров для меня не находилось, зато в кафе бывали замечательно нежные пирожки с чем-нибудь, и временами пахлава, о которой я не знала, что она такое, пока здесь же не отважилась впервые попробовать. И, конечно, по-настоящему натуральный и крепкий кофе в предперестроечной Москве был возможен только тут – двойной, тройной и любой другой необходимой кратности, и без тени недовольного недоумения продавщиц. Цэдээловский персонал, давно перестав удивляться чему бы то ни было вообще, выработал профессионально философское отношение к жизни в целом и к весьма буйному пишущему контингенту в частности: особо морально-неустойчивых и многолетне-запойных величали по-матерински поименно. Я же принадлежала к небуйным, безымянным и явно временным, поэтому кофе мне подавался без особой участливости, но всё же не по-советски корректно, и горло непрошено теснил благодарно-горделивый ком жгучего и непривычного осознания, что и я способна по эту сторону прилавка оставаться человеком, и даже более того – кто-то, кроме меня самой, с этим согласен настолько, что не испрашивает взамен дополнительных заслуг перед отечеством, званий и прав, а вежлив хотя бы профессионально. И это приручало больше всяких спонсорских иллюзий и окололитературных чревовещаний вокруг бутылочных батарей, и даже больше пахлавы. Подозреваю, что корни маминой ностальгии ютились именно в этом чувстве никем не оспариваемого достоинства, воспринимавшегося обездоленными советскими гражданами почти как право на вторичное рождение.
Один посвящённый пахлаве вечер подарил мне встречу, запомнившуюся пожизненно и давшую ощутимо зримые следы в восприятии мира. Я до сих пор подозреваю, что эта встреча – единственное, что может оправдать два года бессмысленнейшей отсидки взрослого члена писательского союза на инфантильнейших литературных курсах.
2.
Передо мной упрямо терпела очередь худая замкнутая дама злонамеренного вида в возрасте, уже не имеющем полутеней. Она была перекрашена из рядовой интеллектуально-богемной москвички в египетскую жрицу самого тайного храма, лик её был магически бледен, а губы агрессивно-алой помадой превращены в крупный хищный рот для дурных предвещаний. Я, удивляясь столичной неистощимости на прискорбные человеческие типажи, сожалела о несбыточном в России Феллини, смотрела на женщину неотрывно и думала что-нибудь не очень хорошее про то, как бескомпромиссно жестока столица, истирающая людей, имевших когда-то индивидуальные естественные лица, до опустошённых масок. Жрицу, похоже, тоже интересовала преимущественно пахлава.
С кофе и пахлавой мы одновременно оказались в вечернем часе пик, переполненном хмельным рокотом голосов; литературный прибой гремел в узких стенах курзала, нас объединила необходимость со своими чашками и блюдечками куда-то присесть. Мы заземлились на окраине минутно опустевшего столика.
Жрица – из вежливости – поинтересовалась, как меня можно называть. “Татьяна”, – представилась я. Жрица что-то мгновенно вычислила, позже я поняла – что именно, и продлила вежливость вопросом о роде творческих занятий. “Пишу”, – добросовестно отчиталась я. “Поэт?!” – мрачнея, вяло поинтересовалась жрица, оценивая попутно мои метафизические самодеятельные одеяния. “Прозаик”, – поспешно запротестовала я против понижения ранга, а также, чтобы убедить в неотвратимо серьёзном отношении к миру – в московской литературной среде визитная карточка “поэтессы” по сию пору, и не без оснований, читается как литературный макияж сексуально неудовлетворённой особы, которыми ЦДЛ был оккупирован в переизбытке, а принадлежать к какому бы то ни было переизбытку мне никак не хотелось. Жрица бледно-синим оком пожилой весталки сняла с моих одеяний дополнительную информацию, и, согласившись внутренне, что подобное мог напялить на себя, конечно же, только прозаик, ещё более безумный, чем поэт, потребовала к моему имени какой-нибудь дополняющей расшифровки. “Вы меня не знаете. Я Тайганова.” – “Знаю. Сафари на льва. «Юность», девяностый год”, – определила жрица, и начала меланхолично пожирать пахлаву.
Это было первое и единственное за два года пребывания в столице добровольное подтверждение того, что кто-то меня читал и что я, стало быть, действительно существую, – передо мной пил четырёхкратный кофе живой свидетель моего творчества. И, замерев в шоке над собственным блюдечком, я заподозревала в свою очередь: “Вы – тоже?.. Пишете…” – “Нет, – брезгливо отрезала жрица. – Я открываю ПРАязык”. Чувствуя, как стремительно меркнет моё собственное призвание, и для того, чтобы не видеть удручающе яркого рта и больше верить услышанному, я, как в мандалу, уставилась в круг собственной тарелки. Жрица, прикончив пахлаву, добавила: “Тайганова – конечно, – псевдоним. Впрочем – неплохой. Думаю, что вам будет понятно”. И разверзлась.
Жрицу звали Наровчатская.
3.
Забыв про грядущих спонсоров, я на два часа вверглась в полную неподвижность и лишь спустя вечность слишком поздно дёрнулась за записной книжкой.
Двухчасовая исповедь о праязыке воистину была теургическим актом пересотворения мира, неудержимостью и страстью она походила на Ниагару, воображённую в священном неистовстве. Эта узкокостная цепкая женщина, обладая редкостной душевной выносливостью, решила самостоятельно доискаться до общих корней всех языков; она соединила в первичный ил санскрит, греческий, латынь и современные европейские языки, добавила к ним острые тюркские приправы и долго варила получившееся по принципу русского борща, куда закидывается любое пригодное, лишь бы стало что есть и чем насытиться; на это блюдо ушли, возможно, десятилетия, она не сдавалась, её отовсюду гнали, клеймя дилетантством, указывая на неакадемичность и зацикленность на метафизическом Боге, совсем не почитаемом в доперестроечной совковой России; она терзала себя и других упрямыми усилиями, отсеивая из всех речевых рядов уводящие от цели механизмы префиксов, суффиксов, флексий; признавая за ними строительные права уже рождённой языковой структуры, но, тем не менее, вовсе не считаясь с морфологией как с основой основ. Здраво предполагая, что первобытный звукоряд должен был предшествовать всякой морфологии, право пребывать всерьёз она оставила лишь корням слов, а из слов выбрала лишь основополагающие, слова-патриархи типа земли и неба, мужчины и женщины, начала и конца, жизни и смерти.
Основы должны были неминуемо раскрыть иное; материальное приоткрывало настойчивой жрице нематериальное, не слишком, однако, мирно соседствующее с принципами точной науки. Потрудившись ещё пятилетку-другую, Наровчатская оставила лишь орнаментально повторяющиеся фонемы, а в фонемах – неизменно и неизбежно сопряжённые друг с другом основные звуки. Прокарабкавшись из материализованного мира слов до начальных вибраций, она решила, наконец, затормозить, чтобы вполне обозримому звукоряду, присущему, с её точки зрения, всем мировым языкам, дать свои индивидуальные разъяснения и произвести необходимый перевод с современного языка на праархаичный. Звукоряд ей, как и Менделееву, приснился – в образе таблицы, в виде столь же отчётливой, не терпящей никакого беспорядка, схемы, составленной Богом. Я спросила, как ей удалось наутро пережить осознание собственного видения, она ответила, что до сих пор этого не понимает.
Наровчатская рассказывала, как сунулась со своим звукорядом к академику Лихачёву и получила от него суровый академический отлуп, перекрывший всякие серьёзные пути к публикациям. Я же лишний раз убедилась, что если хочешь что-то всерьёз постичь, то необходимо лишь одно – бессменно и без праздных выходных оставаться метафизиком, даже если чувствуешь себя при этом последним Робинзоном на последнем во Вселенной острове; нужно знать лишь своё скромное, но священное место и понимать себя, как работника Бога в его винограднике, и не быть там, однако, лисой. Наровчатской управляла непокорность и твёрдое знание, что Бога бессмысленно подвергать сомнению и тогда, когда в метафизике бытия сомневается хотя бы и величественный Лихачёв. Отныне было безразлично, насколько “обрывочно”, “эклектично”, “вторично”, “безумно”, “безграмотно” – и что там ещё – открытие мира этой необыкновенной женщиной, ибо ничто во мне не пожелало усомниться в её чарующих выводах. Можно, стократно переворачиваясь и переворачивая, доказывать, что её этимология тысячи слов ложна, – эту женщину интересовали не слова во плоти, а одухотворяющие их понятия; слова же были разобщённой рудой, из которой предстояло извлечь суть, начальные связующие свойства и связи; пусть кто угодно рвёт в клочья эти хоть и приблизительные, но – возрождённые – связи; можно упираться рогами в Великую китайскую стену и в гневе и пене доказывать, что стена сложена плохим строителем из глыбных пород понятий, никогда не соседствовавших и скреплённых лишь неубедительной силой наития, – стена до неба всё равно останется чудом Бытия. И в любом случае Наровчатская в одном безусловно права – праязык должен существовать, раз существуем говорящие мы, и должны наличествовать в языке энергии, связующие множество уже неразличимых и неслышимых первопонятий в каждом речении; энергии, бесцельно поглощаемые нами без понимания, не замечаемые так, как незамечаем ежедневный ток крови в наших телах.
4.
К сожалению, в моей памяти осталось лишь единичное. Рискуя многократно ошибиться, я всё же делюсь тем ничтожно малым, что удержалось после торжественной лекции, прочитанной в самом неподходящем для неё месте – в перепившемся до траурной скорби курзале Центрального Дома Литераторов Наровчатской Людмилой Борисовной – таково её полное гражданское имя. Возможно, что её труд был уже где-нибудь опубликован, скорее всего, – за границей, – я об этом ничего не знаю, и, признаться, уверена, что даже если это и так, то вряд ли на такую книгу найдётся широкий российский читатель, ибо мы все уже давно откровенно глухи к истине языка и печально безграмотны, а нынешнее время нисколько не способствует изменению нашего восприятия в лучшую сторону. Поэтому делюсь теми приключениями понятийных словесных ядер, которые могу извлечь из собственной памяти.
Помню, что имя АННА, наиболее частое и желанное в европейских языках, возрождаемое в разных транскрипциях (ХАННА, АННИ, ЭНН и так далее), предпочитаемо родителями, ищущими новорождённому младенцу имени, совсем не случайно – выбор их глубоко интуитивен. И не только потому, что это созвучие удивительно удобно для произнесения единым легким выдохом, никого не принуждающим к усилию, а по внутреннему инстинктивному убеждению в соответствии имени его скрытой сути, ибо в нем дважды – туда и обратно, и к терниям, и к звёздам, – сопряжены в единое два первичных звука: “А” – распахнутый во все пределы материальный мир продолжающегося творения и рассеивания, и “Н”, символом которого можно определить “Нутро”, – всё, связанное с жизнью, сохранением и животом. АННА – имя открытого земной женщине материнства – вбирания, созревания и рождения. Это имя было невольно и тихо избрано мной однажды для моей дочери, которая когда-нибудь родится, пусть даже и не у меня или не в этой жизни; лишённое цветовой сочности, яркой плоти, лапидарное в своей простоте, не имеющее даже конкретного образа, имя АННА пребывало во мне лет с шестнадцати; оно было невещественно, ни за каким лицом не закреплено, и до сих пор среди моих знакомых нет ни одной АННЫ. Это имя принадлежало как бы всему материальному, женственному миру сразу, как принадлежит без всякой двуличности спадающий с неба дождь. АННОЙ в череде моих предков звали одну только мою бабушку, мать моей мамы; не только я не видела бабушки живой, но и мама припоминает её смутно и слабо, так как осталась с восьми лет сиротой.
Помню, что йот – “Й краткое” (в латинской транскрипции “джей”, в русской – как вариант – “Ж”) – есть собирающий центр; и что наша столь любимая ненормированной естественно-бытовой речью “Жопа” есть отныне не простая круглая выпуклая задница, неиссякаемый предмет насмешки и высокомерия прочих не столь округлых органов, и не просто соединение в сомнительный купол бесполезных, с точки зрения не-врача анатомических мышц, а некая спираль, вбирающая собою энергии вокруг невидимого центра. Это сегодня, десять лет спустя после рухнувших границ идеологии, мы грамотны – хотя бы в назывном качестве – в отношении основ восточной метафизической анатомии человека, разъяснившей русскому любопытному гражданину, что за чудовища такие “муладхара” и “кундалини”, организующие и преобразующие, как оказалось, в каждом из нас космические энергии в энергию созидания и органической жизни. В девяностом году такого рода интригующие подробности знали немногие, поэтому Наровчатская, не эксплуатируя таинственной Азии, объяснения свои продлила в пределах русского языка: Жулик, Жадина, Жмот, Жид, обЖора, Жлоб, – это кроме целого гнездового ряда слов с корнем “ЖОР”. С “Ж” связана и позитивная, дарящая, отдающая концентрация энергии, а не только поглощающая и присваивающая, хотя бы, например, Жалость, которая, впрочем, родственна тоже не чему-нибудь, а “Жалу”.
Расшифровка физиологических тылов затянулась надолго – звук “З” – вторая ипостась пресловутого “Ж” – обозначила тылы более отвлеченно материальные, и оказалось, что подмосковная РяЗань обозначает всё ту же часть человеческого тела, что попутно подтверждено и графическим оформлением этого звука в письме. По утерянному смыслу “З” обозначает “Зады” – крепость, невидимый родовой скелет; равно как и сам предлог “ЗА” символизирует собою все то же самое – последний рубеж, находящийся за спиной; предел, требующий от человека беспрекословной защиты и последней крови, и смыслом нашего человеческого униженного зада вдруг оказался благородный щит бодрствующего воина, в связи с чем я некстати вспомнила рекомендации из учебников по гражданской обороне улечься на землю на карачках при ядерном взрыве, выставив тот самый щит к его эпицентру. Медики знают, что столь трагикомическое положение тела при угрозе лучевого поражения действительно способно при благоприятных (?!) обстоятельствах предохранить все прочие органы, в том числе и самые в такого рода ситуации ценные кроветворные.
Помню, что Ракета не случайно обозначена в языке именно “ракетой” – в выборе неологизма поучаствовал верховный бог Солнца древних египтян “РА”, за которым в законном порядке последовал верный вооружённый воин – звук “К”, обозначающий в таинственном звукоряде Наровчатской завоевателя, Коня, культ всадника, – воителя Вселенной.
Помню, что местоимения “ТОТ” и “ТА” оказались непосредственными и ближайшими родственниками богу ТОТУ, и ещё, разумеется, – Тьме; древние предпочитали вообще говорить не только друг о друге, но даже о самих себе в третьем лице, упоминая же отсутствующее лицо, не называли его имени вслух по мистическим соображениям, – это я знала ещё из традиций американских индейцев. Указывая на него, наши прапрапредки сообщали друг другу, что пошёл по своим делам не “тот, который”, а именно “Тот”, и не “та, которая”, а “Та”, то есть – человек, уподоблённый своим скрытым душевным естеством самому Богу. Наровчатская подчеркнула, что бог Тот присутствует именно в указательных местоимениях, и я внутренне согласилась с такой логикой – а где же ему расположиться ещё, чтобы постоянно напоминать своему творению о его божественном происхождении? Во многих словах основа бога Тота неоднократно демонстрирует своё присутствие, как, в частности, и именах, в том числе и в имени “Татьяна”, и Наровчатская заставила меня самостоятельно перевести его с общеупотребительного языка на глубинный понятийный звукоряд. И получилось, что в этом имени слитно сосуществуют две ипостаси бога; собирающий, втягивающий “Йот”; направленный в недра материи “Н”; а вся эта сконцентрированная, “от бога” идущая, им подаренная и организованная энергия в итоге выплёскивается в безграничное пространство внешнего материального мира, его преобразовывая, – в “А”. Покорённая столь глубинным осуществлением собственного имени, я внутренне пообещала себе всячески пытаться ему соответствовать, Наровчатская же торопилась отдёрнуть покровы тайны с начал мироздания.
Помню, что “МА” есть пракорень всего материнского начала, не того, которое явлено в имени “АННА”, открытого всем влияниям и ветрам, теплого и лёгкого имени земной материи, а начала высшего и прапрарождающего. Отсюда, соответственно, “ТЬМА” есть тот “ТОТ”, который и был в начале всех времен, как праматерь, праматерия, пракрити индусов, мира. Отсюда же закономерно воспоследовала обжигающая догадка, что “Магия”, независимо от цвета кожи, чёрной или белой, – естественная, природой заложенная принадлежность женского существа.
5.
Озабоченная тогда проблемами личного морального выживания и хоть какого-нибудь признания, пусть – даже и не литературного, а хотя бы просто человеческого, я жаждала получить от ближних и дальних глоток тепла, который придал бы уверенности в себе и силы дожить до скончания курсов, литературных и высших. Естественно, я была слишком далека от серьёзной метафизики, – литература такого рода просачивалась сквозь книжные развалы в девяностом году ещё неглубоким родником, вызывающим к тому же массу неоправданных подозрений, и, чтобы всерьёз решиться войти в этот родник, мне, как и многим моим соотечественникам, понадобится ещё несколько лет. Но уже был очевиден глубинный труд и справедливое стремление Наровчатской доискаться до истоков слова, и сколько же ей пришлось перелопатить руды, чтобы вычленить хоть несколько принципов в качающейся архитектуре понятий!
Первопонятий оказалось не так уж много: солнце и небо, человек – мужчина и женщина – и чадо, их малый младенец; Мать и Отец, жизнь и смерть, материя и дух, свет и тьма; и, конечно же, материально рассеянные по миру намеки на божьи имена и на признаки творения – собирание и рассеивание, созидание и разрушение; движение и покой, космос и хаос, рождение и распад, – вот и весь, пожалуй, основной круг вместе с началом мира и его итогом, вылившийся в дуалистическую, противопоставленную таблицу мироздания, родившую понятийный звукоряд. Немного, зато то, – и только то! – без чего ничего быть вообще не может. И неважно было, что в этих переделах и смыслах останется истинным, чтобы когда-нибудь стать академичным даже для Лихачёва, а что сможет послужить лишь дополнением истины, ибо чему-то вполне возможно найти и иные объяснения, далекие от вариантов Наровчатской. Другое возможно почти всегда, однако сам этот круг первопонятий – единственен и не подлежит вариациям. Для меня имела значение сама попытка предъявить населению земли очередной вечный двигатель – нахальные усилия одиночки осознать всю человеческую речь ради её истоков. И исповедь о праязыке я восприняла настолько, насколько может оказаться бесповоротным любой доверительный намёк на ещё один путь к единственной родине человека, – той, что существенней всех смертей и рождений; указатель, затерянный в завалах терний и выстраивающийся лишь ими; тайна, которая неминуемо призовёт человека от любых настигнутых им сияний на сиротскую землю, туда, где терпеливо ожидает его внимания всё малое.
* * *
Мы встретились через месяц, случайно, в курящихся дымными клубами кулуарах ЦДЛ, неуверенно поздоровались, и Наровчатская подарила с трудом изданную монографию, почему-то вдруг о “Слове о полку Игореве”, но продолжения меж нами не получилось, – к жрице подсел беседовать какой-то именитый местный контингент и заговорил тем снисходительно-терпящим тоном, которым по необходимости и вынужденно разговаривают с малыми и неразумными, или же с людьми, безнадежно заблудившимися в пустопорожнем истощающем лабиринте, и жаль теперь их, блуждающих не там, где положено. Жаль человека, хоть и бабу, и не совестно же ей жить среди разумных.
Впредь мы кивали друг другу с дальнего расстояния, и по непонятной дурной логике невозможно было шагнуть ещё раз за пределы отстраняющей жреческо-дамской столичной маски и дослушать про культ всадников и мистическую тайну франко-итальянского артикля “ЛА”, в Европе употребляемого перед именем существительным (ЛА-Рашель, ЛА-Скала), а у русских, которые, как известно, всё делают с точностью до наоборот, и в этом тоже, видимо, пребывает некая тайна, это самое “ЛА” – “Л” почему-то поселилось в суффиксах и преимущественно в глагольных окончаниях – “молчаЛА”, “спешиЛА”, “терпеЛА”…
Подаренное “Слово” потерянно осело в челябинских полках с книгами, я не смогла в нём никуда прокарабкаться; подруга Вита Фролова, осваивавшая тогда первый курс литинститута, носила его своему профессору Горшкову, большому специалисту по старославянскому языку, и тот не нашёл в нем открытий, заявив, что всё наровчатское нарочито, надумано, притянуто за уши и глубоко безграмотно.
Слава Богу, я не обременена профессорскими познаниями, хотя вполне способна допустить тотальную безграмотность в каждом из нас; вопрос отличий заключён, видимо, во внутренней ориентации на признание верховенства законов либо материальных (в том числе и материи слова), либо – мистических и внематериальных. Жрица Наровчатская избрала второй путь, и я никогда не соглашусь, что это путь невежества. Сравнение великолепного Даля, при составлении своего словаря всей кожей ощущавшего величественную магию слова, с очень грамотным Фасмером, разложившим слово в гастрономически-этимологические конструкции, лишний раз убедило в том, что эволюционно качественные скачки в сознании – то, что мы ошибочно называем “революциями”, – совершаются либо дилетантами, которые не знают, что чего-то ни в коем случае нельзя, потому что так не велели Лихачёв или Фасмер, либо боговдохновенными поэтами.
Наровчатская была поэтом.
Сентябрь 2002 г.
Поделиться:
Смотреть всё
Ещё почитать: