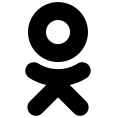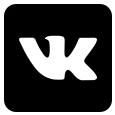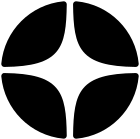1. Тебя зовут Та
Обновлено: 10 июн. 2019 г.
Проза Татьяны Тайгановой ©
Фото из семейного архива ©
Предисловие
— Тебя зовут Та.
И тот, кто был твой, был Тот, —
сказала мне ведьма, пьющая чёрный кофе.
И тот, кто был твой, был Тот, —
сказала мне ведьма, пьющая чёрный кофе.
* * *
…Mы знакомы, но плохо помним друг друга.
Мы это я и я. Та и Эта. В шестнадцать и около лет — и больше чем в шестьдесят.
Помню, что Та меня спрашивала. Часто спрашивала. Прямо вот сюда, где я сейчас. Отсюда — туда — упрямо молчало. Чаще всего молчало пустотой. Иногда тяжко и с неуловимым подтекстом. Ещё были усмешки — помню своё смятение, когда ответ как бы есть и как бы точно нет потому что быть не может и кругом иллюзия.
Ответить Этой — Туда и Той… чего теперь отвечать. Ответы есть, спрашивающих нет.
Та была как бы Марченко. Эта теперь как бы Тайганова. Третьего обозначения уже не нашлось, хоть и искалось усердно.
...Хотя вот тайга как раз и была. Четверть века лет назад. Мои первые самостоятельные юношеские снимки — смешные, нелепые и до душезамирания искренние — фото, рождённые подгрызенным щенком фотоаппаратом. И та же самая уральская тайга, но уже безупречные фото моей Крестной. Фотобиография нашего прайда упорно отлавливалась ею и ее почтенным и верным ФЭДом, честно отслужившим в ее руках полвека.
…И это все — сотни фотопачек и мешок рассыпающихся пленок — сканить-чистить-сканить-чистить-сканить-чистить до посинения пупа.
Сделать это необходимо. Чтобы сохранить следы утерянной скудной гармонии лет, ныне всем миром отвергнутых. Чтоб самой не потерять свой Ласковый Лес и его озеро Увильды, и их общего одиноко страдавшего йети, мучительно и скорбно дышавшего в дверь построенного мамой Дома.
Ответить Туда, где уже нет.
...Почему-то нужно.
* * *
Мою бабушку звали Анна Григорьевна. Она была уже в весьма зрелом возрасте, когда умудрилась женить на себе упрямо сопротивлявшегося моего деда, хохла до глубины костей, умнейшего человека с тремя классами образования.
У деда, маминого отца, были министерские мозги, он безошибочно вычислял из скупых газетных сводок того времени всю политику-экономику. На деревянных счетах. На которых лихо не только вычитал-складывал, но и перемножал-делил без запинки. Темные деревянные счеты были его компьютером, работавшим без сбоев и с фантастической скоростью. Оперативки хватало у самого деда. Дед очень не одобрял вычисляемые в фунтах, пудах и копейках итоги советской политэкономии. И узрел Бога после того, как его придавило паровым котлом, сгружаемым в одиночку с самосвала. На просторном дедовском лбе остался глубокий шрам. После травмы он, будучи без сознания, насмотрелся битв не видимых всеми остальными Воинств, которые почему-то выходили из стены на печку-столбянку, а куда девались — неизвестно, но все были красного цвета. Нескончаемые битвы Добра и Зла ему надоели, и он понял, что придётся ему жить, потому что Богу надо в Его борьбе помогать.
Инвалид с жилистыми руками был грабарем. Позже Бог деду явился снова и порекомендовал не чураться Евангелия. Церкви и приходы в то время уже были порушены. Верователи собирались полутишком по частным домам. Чьи-то особо посещаемые становились домами молельными. Евангелистом неофиту тогда было оказаться проще, чем каноническим православным. И дед стал руководителем сначала Орловской, потом Симферопольской Евангельской общины. И был пресвитером почти до конца дней своих.
Во время войны он спасал от голода людей, мастеря то ботинки, то что еще что подручное, и по дешевке, где было возможно, перекупая гвозди-подковы и вывозя в сидоре этот сельхозскарб на рынки туда, где гвоздей после войны не хватало. На вырученные медяки дед поднимал двоих детей, уже оставшихся без матери. А «лишки» (откуда бы брались вообще?! — дед считал постыдным иметь для себя больше одних брюк) передавал тем, кто нуждался. К нему приходили всегда.
У деда рос огромный виноград. На крохотной сотке симферопольского песчаника, где земля рождали камни чаще, чем зелень. Я, в живую дедову бытность еще малявка, опасалась ходить под четвертьпудовыми гроздьями.
Из камней, выпертых бунтующей почвой из этой подсобной сотки, дед благоустроил нехилый кусок общего уличного «тротуара». Я помню эту насыпуху, и помню, как дед после каждой прополки своего виноградника выносил в железном сите камни и ссыпал их у забора — аккуратно приспосабливая каждый камень к делу.
Домик был на двоих хозяев. Соседи каждый год доставали деда требованием пересмотра земельных участков — у Деда всегда и всё росло, у соседей всё и всегда дохло. Строго пропорционально. Пережить они этого не могли. Дед не спорил, пожимал плечами, перебирался на сотку у другого угла все того же домишки. И у него опять росло.
А соседи опять планировали передел собственности.
* * *
Крестьянка-бабушка, мать моей мамы, когда готовила скудные обеды для моего деда, бормотала стихи. Стихи у нее получались само собой, как заправка к щам. Практичный хохол-дед скрипел зубами, но терпел. Потому что если бабушка впадала в дурное расположение духа, горшки у нее бились и лопались без видимых причин.
* * *
Моя мама, рожденная моей бабушкой в сорок пять лет, выросла под чтение вслух Библии — с утра, на сон грядущий, перед завтраком-обедом-ужином. Что впоследствии надолго осложнило ее личные взаимоотношения с Богом.
Бабушка, мамина мама, умерла, когда маме моей не было восьми лет. В семью пришла мачеха, Хиония Ивановна. Фамилии ее не помню. Тепла между нами никогда не было.
Маме запрещали читать. Мой дед был пресвитером Симферопольской баптистской общины, книги полагались явлением сугубо греховным, своего угла у мамы не было в помине, а был — далеко не сразу — Собственный Стол. Ну еще кровать была, конечно. Но сначала это был долгие годы окованный сундук. Этот сундук, печь-столбянка, железная кровать родителей, стол и наследие от родной матери — "Зингер". Всё. По тем временам жилью человеческому излишков не полагалось. Никаких абажуров и даже занавесок.
...Шестнадцатиметровая комнатенка на задворках города, тксзт-удобства — во дворе в любое время года; посреди ущербных-жилых послевоенных метров — большая грубая печь, отделявшая куток «кухни», где готовились какие Бог послал щи. Остальное — метров девять, печь занимала четверть комнаты — оставалось на прочее семейное жилье — деду моему и его второй жене (маминой мачехе). Мачеха сидела за вечным «Зингером». А раньше за ним, в том же месте в центре комнаты, сидела мамина мама и вершила то же неизбежное скудное насущное рукоделие, обшивая семью.
И по сей день жива это честнейшая немецкая швейка в нашем нынешнем жилье: стоит, колченогая, покрытая алой плюшевой тихо лысеющей шкуркой тех же давних времен. Алое, отдающее в оранжевую ярость полотнище, подшитое простой веревочно-крученой бахромой, извлекла я из благословенных мусорных контейнеров Калининграда-Кёнига середины 90-х. Отстирала. И укрыла неистершимся и по сей день плюшем родственную ему старую вещь. Кошка Пена-Пеночка-Пенелопа любит там растягивать свои царственные пятки. Потому что пяткам там правильно. Одна выгнутая лапа почтенного Зингера отщипнулась падением пятитонного контейнера в фазендовые хляби десять лет назад — ничего, кроме этих пяти тонн с размаху углом в русское поле не могло поколебать немецкой стойкости. Единственное, что пришлось однажды мне заменить — стершуюся на-нет шпульку, да еще никак не могу добыть адекватно круглого тугого шнура — чтоб колесо крутилось не заикаясь, старый же шнур стократ мною перешит-сцеплен-стянут в живую петлю суровыми нитками.
...Мачеха стрёкотно строчила, перешивая разношенное тряпье наново; семейное штопалось еженедельно по субботам, всё сразу и скопом, потоком из огромной, бездонной корзины, которую мама и по сей день поминает с ужасом: бумазейные носки с продранными пятками были — все до единого — маминой прямой девчоночьей вспомогающей обязанностью. От нее и я могу грамотно заштопать любой носок (носков, правда, в том нуждающихся, ныне уже не делают, и как вид они вымерли, а китайское барахло для штопки негодно), чем однажды даже всерьез впечатлила соседку АннаКузьмовну в дер. Большая Рига: АннаКузьмовна нашивала на сношенные пятки заплатки из престарелых чулок, прям поверх добротного-плотного своего овечьего вязания. А я, попав под руку в нужный момент, научила седую деревенскую бабу штопать нитками. И тем обрела, наконец, ее уважение и очередную пышную булку из ее роскошной русской печи, — Кузьмовна, строго бережливая хозяйка, любила отдавать, предпочитая одаривать почему-то именно наш прайд. Притом невесть за что еще и уважая наше странное семейство, тщетно пытавшееся благоустроить двадцать своих первых деревенских соток. Кузьмовна обильно вздыхала, выглядывая из-за своего забора в наши сомнительные угодья, и кивала — зайди. А я лечила ее кошек. Чем тоже, видимо, впечатлила — Кузьмовна и не ведала, что такое вообще бывает. Да еще и пользу какую ни то способно принести, избавив замученных ушным клещем мышеловок от изнурительной чесотки, отвлекающей от исполнения служебных обязанностей в хлеву и подполе. И тем признанием от Кузьмовны своей не полной все-таки бесполезности горжусь до сих пор.
...Мачеха, Хиония Ивановна, была нелюбящей, с неумелым сердцем, женщиной. Поздно попавшей в первый брак. Ответила деду-пресвитеру согласием на семейную совместность уже далеко после сорока, — стать хозяйкой в доме вдовца, да еще и по богоугодности, было ей почетно и лестно.
Дед мой, может, и любил мою маму, да уж точно не применял никакой ласки: вдовцом остался с двумя детьми да на всю войну, мама моя — малая, сын Андрей, брат ее, старше на тринадцать лет, уже отрок. Дед сам готовить умел — вообще умел всё. Но не любил. Надоело. А однако нужно — дети же. И решил жениться. И привел в дом единоверку из своей баптистской общины — "правильную" верующую, детей не бывало у нее, но не в том суть. А в том, что бабка, моя законная и родная, — мамина то есть мать, — бабушка, на которую я похожа как две капли воды, и зеркала тут не нужно, — в свои соломенные годы на себе моего деда нахально женила; тот было посопротивлялся, но уклониться почему-то не смог. Подробностей не ведаю и врать не стану, но факт — дед мой был оженен бабкой моей насильно. А тут довелось самому наконец бабу предпочесть — был у деда резон, был.
Бабушки моей не стало, когда маме и восьми лет не было. Война, жрать нечего, у деда - трудармия по инвалидности, работал грабарем да грузчиком, тут и появилась мачеха. И сжились они, и дошли до конца.
* * *
…Уже студенткой мама приезжала домой, мачеха выходила с ней «гулять» — так было принято; не говорилось меж ними ни о чем и никак, а как-то быть рядом оставалось нужно. Неумелая женщина сообщала подчерице, девушке уже на выданье: «Вон — машинка поехала», «Вон, Ава, петух на заборе». Исполняла воспитание.
Ава — это мама. Авигея, «радость отца» и мудрая жена царя Давида.
Моя прабабушка, страстная мечтавшая о внучке, спотыкнулась раз-другой-пятый о неведомое библейское имя и в концов перепела его на свой, легкий ее речи лад, с облечением душевным величая внучку "Миропеюшкой".
Имена, однако, были в то время у женщин: Хиония, Авигея... Миропия. Сгинуло благородное звучание.
* * *
Первой книгой, прочитанной не тайком, а по праву, оказалась «Песнь о вещем Олеге». То ли тиф, то ли корь, то ли коклюш, — мама-девочка болела, борясь за жизнь, бредила, но оклемалась, а школьная подружка принесла болящей книжку в дар. И строгий дед мой, перепуганный просвистевшей мимо ребенка смертью, просто не решился на книжку наложить вето и ее изъять.
Книги, которым пробил путь «Вещий», читались теперь уже в школе, запоем сквозь парту: снизу втихую подкладывался книжный разворот. Всё, — стихия поперла лавиной. «Вещий» пробудил равновесие мер и весов, одним прикосновением к воображению ребенка оживив душу. Вещее — к вещему: душа проснулась, открыла многие очи и стала искать себе пропитание.
…Кто еще помнит древние парты с откидушками, тот помнит и этот опыт чтения насквозь: где откидывается доска — там есть петли, а где есть петли — там милостивая щель, сквозь которую можно, затаившись и делая всякий прочий правильный вид, читать строку за строкой — в щель ровно строчка книжного текста и была различима. Мама и пополнялась, чем было возможно, через эти щели-парты.
Читать, однако, по тем временам было нечего. Запрещен был даже Паустовский. Или он позже появился и запретился, в мамины студенческие времена? Впрочем, одного «Вещего Олега» маме хватило настолько, что она ринулась писать подручной детской своей речью поэму. Пушкин-то — был. Настолько был, что уже не посадишь. Это я его не слышу — ну кто ж станет удивляться воде, которую пьет, — вода и вода, мало ли что без нее чего-то там — самой жизни — не было б. Не слышу классика, да. И не слышала с детства, потому что уже было никакой там не "поэзией", а влилось напрямую, в унаследованный состав, как часть клеток тела. А у в мамином поколении, видать, это слово еще звеном ДНК не было, а было водой не просто Н2О, а живой. Ибо спасло, судя по всему, в те сумеречные годы народу творческую речь. А речь духовную, думаю, в маме моей продержала как раз и по сей день с оторопью ею отвергаемая евангелическая традиция, признающая печатное слово лишь в библейском исчислении. Единственной книгой чтения в пресвитерском гнезде была только Библия, и уж читалась она "для души" от души... каждый день, каждый день, каждый день. И по сию пору мама сходу поправляет мое более чем приблизительное библейское цитирование, морщась слухом памяти слова, — так настораживаются музыканты, споткнувшиеся о неверно взятую неумелым исполнителем ноту.
…Понадобилось, однако, потом почти полвека разгрузочной диеты, чтобы мама однажды взяла Книгу в руки, уже добровольно, с целями не религиозными, а творческими.
* * *
Уж откуда, с какой помойки (о, наши российские спасающие помойки — вот уж где Среда Обитаемая рулит и сей день, исполняя все желания неимущих!) приволокла мама свой первый столик — пра-пра-пра всех будущих наших писательских столов — в родительское жилище, и сама не помнит. Но настояла, переломила дедов категорический протест «чужого не брать» и мачехову любовь к голому распорядку. «Для уроков!» — стойко, и, быть может, впервые стояла на своем мама. Дед кряхтел-кряхтел, хмурился усомняясь, однако ведь опять же — резон ежели есть. Что ж. Уроки, да.
Уроки можно. Как учебники книги дозволялись. Что и оправдало вселение Столика в строгий баптистский дом.
Втиснут был столик-найденыш между двумя койками — родительской и девичьей (днем сидеть на них не разрешалось никогда ни в одной семье тех давно прошедших лет), и мама законно готовила теперь «уроки» не в запечном кутке, а за Собственным Столом, располагая блаженной свободой в пространстве сорок на шестьдесят сантиметров. Она стала невероятно богатой — почти ни у кого из ее одноклассниц и в помине не было Своего Стола. И втайне вела девичий дневник — как, какими украдками? — в жилье, где некуда было прятать, потому что прятать отродясь было нечего. Тут главное было не в дневнике как факте, а в том, что ничего — ни единой мелочи — невозможно было скрыть от глаз родительских. Всё простреливалось насквозь дежурно бдительными блюдущими взорами. И, улучив удаление родителей в молельный дом на окраине Симферополя, мама свое имение извлекла из ниши между двумя кроватями, перевернула свое помойное имущество, вооружилась отцовскими дратвой-гвоздями-молотком (дед мой, хохол из хохлов, сапожничал при нужде за милую душу и вообще был весьма практичным, хоть в Бога искренне веровал), и приспособила с изнанки столешницы личную потайку-нишу, где на скрытных веревочках и реечках и ожил дневниковый схрон. И тем обеспечила себе между бесконечными молитвами на завтрак, обед, ужин, на сон грядущий и по любому иному поводу, остров личной независимой жизни, приютив ее под столешницей.
* * *
Я похожа на бабушку. Взять бы ее фото и вклеить в паспорт — никто бы не усомнился. У меня бабушкино тело и бабушкина пластика, её рослость и прочая сопутствующая жизни стержневая фактура. И это мои руки лежат на амбарной книге. Даже перекрашенный из-за пятен в черный цвет одежный не-совсем-шипортреб, отданный мне когда-то раздражительной подругой за несметные излишние тряпки, перекочевавшие в её гардероб, я перешила почти в то же, что на фото, надставив, правда, по своему творческому безумию то перекрашенных в сутемки вафельных полотенец, то черной по черному вышивки, то бахромы. И совсем не потому позже шокировала в этом фольклорном балахоне челябинскую промзону, что сильно хотела дымы впечатлить, и даже не оттого, что было в моей жизни это бабушкино фото, а удобно быть собой получалось именно в объёмном черно-полотняном конусе. Который совсем не украшал мне тяжелой фигуры, но почему-то именно так мне и было правильно. И на первую приснопамятную феминистскую тусовку явилась в этом чёрном колоколе. И поплыла самостроком-самокрасом среди тьмы черных женских пиджаков. И на вторую… и больше феминизма в моей жизни не стало.
Про бьющие горшки можно и не поминать. Хотя последние годы надоела разлетающаяся в клочья посуда, и приспособилась её предохранять прямо у пола. То есть роняется она как всегда — по любому поводу. Но биться практически перестала. Процесс трудно объясним, тут главное — что-то внутри успеть такое схватить мыслью как рукой, и даже не мысль это, пожалуй, а мгновенное пожелание «Стоп!», и чашка-тарелка, только что откувыркавшаяся по всем бытовым углам, вдруг благополучно слагает себя ну вот ровнёхонько на самую хрупкую свою грань немыслимо целой.
…Mы знакомы, но плохо помним друг друга.
Мы это я и я. Та и Эта. В шестнадцать и около лет — и больше чем в шестьдесят.
Помню, что Та меня спрашивала. Часто спрашивала. Прямо вот сюда, где я сейчас. Отсюда — туда — упрямо молчало. Чаще всего молчало пустотой. Иногда тяжко и с неуловимым подтекстом. Ещё были усмешки — помню своё смятение, когда ответ как бы есть и как бы точно нет потому что быть не может и кругом иллюзия.
Ответить Этой — Туда и Той… чего теперь отвечать. Ответы есть, спрашивающих нет.
Та была как бы Марченко. Эта теперь как бы Тайганова. Третьего обозначения уже не нашлось, хоть и искалось усердно.
...Хотя вот тайга как раз и была. Четверть века лет назад. Мои первые самостоятельные юношеские снимки — смешные, нелепые и до душезамирания искренние — фото, рождённые подгрызенным щенком фотоаппаратом. И та же самая уральская тайга, но уже безупречные фото моей Крестной. Фотобиография нашего прайда упорно отлавливалась ею и ее почтенным и верным ФЭДом, честно отслужившим в ее руках полвека.
…И это все — сотни фотопачек и мешок рассыпающихся пленок — сканить-чистить-сканить-чистить-сканить-чистить до посинения пупа.
Сделать это необходимо. Чтобы сохранить следы утерянной скудной гармонии лет, ныне всем миром отвергнутых. Чтоб самой не потерять свой Ласковый Лес и его озеро Увильды, и их общего одиноко страдавшего йети, мучительно и скорбно дышавшего в дверь построенного мамой Дома.
Ответить Туда, где уже нет.
...Почему-то нужно.
* * *
Мою бабушку звали Анна Григорьевна. Она была уже в весьма зрелом возрасте, когда умудрилась женить на себе упрямо сопротивлявшегося моего деда, хохла до глубины костей, умнейшего человека с тремя классами образования.
У деда, маминого отца, были министерские мозги, он безошибочно вычислял из скупых газетных сводок того времени всю политику-экономику. На деревянных счетах. На которых лихо не только вычитал-складывал, но и перемножал-делил без запинки. Темные деревянные счеты были его компьютером, работавшим без сбоев и с фантастической скоростью. Оперативки хватало у самого деда. Дед очень не одобрял вычисляемые в фунтах, пудах и копейках итоги советской политэкономии. И узрел Бога после того, как его придавило паровым котлом, сгружаемым в одиночку с самосвала. На просторном дедовском лбе остался глубокий шрам. После травмы он, будучи без сознания, насмотрелся битв не видимых всеми остальными Воинств, которые почему-то выходили из стены на печку-столбянку, а куда девались — неизвестно, но все были красного цвета. Нескончаемые битвы Добра и Зла ему надоели, и он понял, что придётся ему жить, потому что Богу надо в Его борьбе помогать.
Инвалид с жилистыми руками был грабарем. Позже Бог деду явился снова и порекомендовал не чураться Евангелия. Церкви и приходы в то время уже были порушены. Верователи собирались полутишком по частным домам. Чьи-то особо посещаемые становились домами молельными. Евангелистом неофиту тогда было оказаться проще, чем каноническим православным. И дед стал руководителем сначала Орловской, потом Симферопольской Евангельской общины. И был пресвитером почти до конца дней своих.
Во время войны он спасал от голода людей, мастеря то ботинки, то что еще что подручное, и по дешевке, где было возможно, перекупая гвозди-подковы и вывозя в сидоре этот сельхозскарб на рынки туда, где гвоздей после войны не хватало. На вырученные медяки дед поднимал двоих детей, уже оставшихся без матери. А «лишки» (откуда бы брались вообще?! — дед считал постыдным иметь для себя больше одних брюк) передавал тем, кто нуждался. К нему приходили всегда.
У деда рос огромный виноград. На крохотной сотке симферопольского песчаника, где земля рождали камни чаще, чем зелень. Я, в живую дедову бытность еще малявка, опасалась ходить под четвертьпудовыми гроздьями.
Из камней, выпертых бунтующей почвой из этой подсобной сотки, дед благоустроил нехилый кусок общего уличного «тротуара». Я помню эту насыпуху, и помню, как дед после каждой прополки своего виноградника выносил в железном сите камни и ссыпал их у забора — аккуратно приспосабливая каждый камень к делу.
Домик был на двоих хозяев. Соседи каждый год доставали деда требованием пересмотра земельных участков — у Деда всегда и всё росло, у соседей всё и всегда дохло. Строго пропорционально. Пережить они этого не могли. Дед не спорил, пожимал плечами, перебирался на сотку у другого угла все того же домишки. И у него опять росло.
А соседи опять планировали передел собственности.
* * *
Крестьянка-бабушка, мать моей мамы, когда готовила скудные обеды для моего деда, бормотала стихи. Стихи у нее получались само собой, как заправка к щам. Практичный хохол-дед скрипел зубами, но терпел. Потому что если бабушка впадала в дурное расположение духа, горшки у нее бились и лопались без видимых причин.
* * *
Моя мама, рожденная моей бабушкой в сорок пять лет, выросла под чтение вслух Библии — с утра, на сон грядущий, перед завтраком-обедом-ужином. Что впоследствии надолго осложнило ее личные взаимоотношения с Богом.
Бабушка, мамина мама, умерла, когда маме моей не было восьми лет. В семью пришла мачеха, Хиония Ивановна. Фамилии ее не помню. Тепла между нами никогда не было.
Маме запрещали читать. Мой дед был пресвитером Симферопольской баптистской общины, книги полагались явлением сугубо греховным, своего угла у мамы не было в помине, а был — далеко не сразу — Собственный Стол. Ну еще кровать была, конечно. Но сначала это был долгие годы окованный сундук. Этот сундук, печь-столбянка, железная кровать родителей, стол и наследие от родной матери — "Зингер". Всё. По тем временам жилью человеческому излишков не полагалось. Никаких абажуров и даже занавесок.
...Шестнадцатиметровая комнатенка на задворках города, тксзт-удобства — во дворе в любое время года; посреди ущербных-жилых послевоенных метров — большая грубая печь, отделявшая куток «кухни», где готовились какие Бог послал щи. Остальное — метров девять, печь занимала четверть комнаты — оставалось на прочее семейное жилье — деду моему и его второй жене (маминой мачехе). Мачеха сидела за вечным «Зингером». А раньше за ним, в том же месте в центре комнаты, сидела мамина мама и вершила то же неизбежное скудное насущное рукоделие, обшивая семью.
И по сей день жива это честнейшая немецкая швейка в нашем нынешнем жилье: стоит, колченогая, покрытая алой плюшевой тихо лысеющей шкуркой тех же давних времен. Алое, отдающее в оранжевую ярость полотнище, подшитое простой веревочно-крученой бахромой, извлекла я из благословенных мусорных контейнеров Калининграда-Кёнига середины 90-х. Отстирала. И укрыла неистершимся и по сей день плюшем родственную ему старую вещь. Кошка Пена-Пеночка-Пенелопа любит там растягивать свои царственные пятки. Потому что пяткам там правильно. Одна выгнутая лапа почтенного Зингера отщипнулась падением пятитонного контейнера в фазендовые хляби десять лет назад — ничего, кроме этих пяти тонн с размаху углом в русское поле не могло поколебать немецкой стойкости. Единственное, что пришлось однажды мне заменить — стершуюся на-нет шпульку, да еще никак не могу добыть адекватно круглого тугого шнура — чтоб колесо крутилось не заикаясь, старый же шнур стократ мною перешит-сцеплен-стянут в живую петлю суровыми нитками.
...Мачеха стрёкотно строчила, перешивая разношенное тряпье наново; семейное штопалось еженедельно по субботам, всё сразу и скопом, потоком из огромной, бездонной корзины, которую мама и по сей день поминает с ужасом: бумазейные носки с продранными пятками были — все до единого — маминой прямой девчоночьей вспомогающей обязанностью. От нее и я могу грамотно заштопать любой носок (носков, правда, в том нуждающихся, ныне уже не делают, и как вид они вымерли, а китайское барахло для штопки негодно), чем однажды даже всерьез впечатлила соседку АннаКузьмовну в дер. Большая Рига: АннаКузьмовна нашивала на сношенные пятки заплатки из престарелых чулок, прям поверх добротного-плотного своего овечьего вязания. А я, попав под руку в нужный момент, научила седую деревенскую бабу штопать нитками. И тем обрела, наконец, ее уважение и очередную пышную булку из ее роскошной русской печи, — Кузьмовна, строго бережливая хозяйка, любила отдавать, предпочитая одаривать почему-то именно наш прайд. Притом невесть за что еще и уважая наше странное семейство, тщетно пытавшееся благоустроить двадцать своих первых деревенских соток. Кузьмовна обильно вздыхала, выглядывая из-за своего забора в наши сомнительные угодья, и кивала — зайди. А я лечила ее кошек. Чем тоже, видимо, впечатлила — Кузьмовна и не ведала, что такое вообще бывает. Да еще и пользу какую ни то способно принести, избавив замученных ушным клещем мышеловок от изнурительной чесотки, отвлекающей от исполнения служебных обязанностей в хлеву и подполе. И тем признанием от Кузьмовны своей не полной все-таки бесполезности горжусь до сих пор.
...Мачеха, Хиония Ивановна, была нелюбящей, с неумелым сердцем, женщиной. Поздно попавшей в первый брак. Ответила деду-пресвитеру согласием на семейную совместность уже далеко после сорока, — стать хозяйкой в доме вдовца, да еще и по богоугодности, было ей почетно и лестно.
Дед мой, может, и любил мою маму, да уж точно не применял никакой ласки: вдовцом остался с двумя детьми да на всю войну, мама моя — малая, сын Андрей, брат ее, старше на тринадцать лет, уже отрок. Дед сам готовить умел — вообще умел всё. Но не любил. Надоело. А однако нужно — дети же. И решил жениться. И привел в дом единоверку из своей баптистской общины — "правильную" верующую, детей не бывало у нее, но не в том суть. А в том, что бабка, моя законная и родная, — мамина то есть мать, — бабушка, на которую я похожа как две капли воды, и зеркала тут не нужно, — в свои соломенные годы на себе моего деда нахально женила; тот было посопротивлялся, но уклониться почему-то не смог. Подробностей не ведаю и врать не стану, но факт — дед мой был оженен бабкой моей насильно. А тут довелось самому наконец бабу предпочесть — был у деда резон, был.
Бабушки моей не стало, когда маме и восьми лет не было. Война, жрать нечего, у деда - трудармия по инвалидности, работал грабарем да грузчиком, тут и появилась мачеха. И сжились они, и дошли до конца.
* * *
…Уже студенткой мама приезжала домой, мачеха выходила с ней «гулять» — так было принято; не говорилось меж ними ни о чем и никак, а как-то быть рядом оставалось нужно. Неумелая женщина сообщала подчерице, девушке уже на выданье: «Вон — машинка поехала», «Вон, Ава, петух на заборе». Исполняла воспитание.
Ава — это мама. Авигея, «радость отца» и мудрая жена царя Давида.
Моя прабабушка, страстная мечтавшая о внучке, спотыкнулась раз-другой-пятый о неведомое библейское имя и в концов перепела его на свой, легкий ее речи лад, с облечением душевным величая внучку "Миропеюшкой".
Имена, однако, были в то время у женщин: Хиония, Авигея... Миропия. Сгинуло благородное звучание.
* * *
Первой книгой, прочитанной не тайком, а по праву, оказалась «Песнь о вещем Олеге». То ли тиф, то ли корь, то ли коклюш, — мама-девочка болела, борясь за жизнь, бредила, но оклемалась, а школьная подружка принесла болящей книжку в дар. И строгий дед мой, перепуганный просвистевшей мимо ребенка смертью, просто не решился на книжку наложить вето и ее изъять.
Книги, которым пробил путь «Вещий», читались теперь уже в школе, запоем сквозь парту: снизу втихую подкладывался книжный разворот. Всё, — стихия поперла лавиной. «Вещий» пробудил равновесие мер и весов, одним прикосновением к воображению ребенка оживив душу. Вещее — к вещему: душа проснулась, открыла многие очи и стала искать себе пропитание.
…Кто еще помнит древние парты с откидушками, тот помнит и этот опыт чтения насквозь: где откидывается доска — там есть петли, а где есть петли — там милостивая щель, сквозь которую можно, затаившись и делая всякий прочий правильный вид, читать строку за строкой — в щель ровно строчка книжного текста и была различима. Мама и пополнялась, чем было возможно, через эти щели-парты.
Читать, однако, по тем временам было нечего. Запрещен был даже Паустовский. Или он позже появился и запретился, в мамины студенческие времена? Впрочем, одного «Вещего Олега» маме хватило настолько, что она ринулась писать подручной детской своей речью поэму. Пушкин-то — был. Настолько был, что уже не посадишь. Это я его не слышу — ну кто ж станет удивляться воде, которую пьет, — вода и вода, мало ли что без нее чего-то там — самой жизни — не было б. Не слышу классика, да. И не слышала с детства, потому что уже было никакой там не "поэзией", а влилось напрямую, в унаследованный состав, как часть клеток тела. А у в мамином поколении, видать, это слово еще звеном ДНК не было, а было водой не просто Н2О, а живой. Ибо спасло, судя по всему, в те сумеречные годы народу творческую речь. А речь духовную, думаю, в маме моей продержала как раз и по сей день с оторопью ею отвергаемая евангелическая традиция, признающая печатное слово лишь в библейском исчислении. Единственной книгой чтения в пресвитерском гнезде была только Библия, и уж читалась она "для души" от души... каждый день, каждый день, каждый день. И по сию пору мама сходу поправляет мое более чем приблизительное библейское цитирование, морщась слухом памяти слова, — так настораживаются музыканты, споткнувшиеся о неверно взятую неумелым исполнителем ноту.
…Понадобилось, однако, потом почти полвека разгрузочной диеты, чтобы мама однажды взяла Книгу в руки, уже добровольно, с целями не религиозными, а творческими.
* * *
Уж откуда, с какой помойки (о, наши российские спасающие помойки — вот уж где Среда Обитаемая рулит и сей день, исполняя все желания неимущих!) приволокла мама свой первый столик — пра-пра-пра всех будущих наших писательских столов — в родительское жилище, и сама не помнит. Но настояла, переломила дедов категорический протест «чужого не брать» и мачехову любовь к голому распорядку. «Для уроков!» — стойко, и, быть может, впервые стояла на своем мама. Дед кряхтел-кряхтел, хмурился усомняясь, однако ведь опять же — резон ежели есть. Что ж. Уроки, да.
Уроки можно. Как учебники книги дозволялись. Что и оправдало вселение Столика в строгий баптистский дом.
Втиснут был столик-найденыш между двумя койками — родительской и девичьей (днем сидеть на них не разрешалось никогда ни в одной семье тех давно прошедших лет), и мама законно готовила теперь «уроки» не в запечном кутке, а за Собственным Столом, располагая блаженной свободой в пространстве сорок на шестьдесят сантиметров. Она стала невероятно богатой — почти ни у кого из ее одноклассниц и в помине не было Своего Стола. И втайне вела девичий дневник — как, какими украдками? — в жилье, где некуда было прятать, потому что прятать отродясь было нечего. Тут главное было не в дневнике как факте, а в том, что ничего — ни единой мелочи — невозможно было скрыть от глаз родительских. Всё простреливалось насквозь дежурно бдительными блюдущими взорами. И, улучив удаление родителей в молельный дом на окраине Симферополя, мама свое имение извлекла из ниши между двумя кроватями, перевернула свое помойное имущество, вооружилась отцовскими дратвой-гвоздями-молотком (дед мой, хохол из хохлов, сапожничал при нужде за милую душу и вообще был весьма практичным, хоть в Бога искренне веровал), и приспособила с изнанки столешницы личную потайку-нишу, где на скрытных веревочках и реечках и ожил дневниковый схрон. И тем обеспечила себе между бесконечными молитвами на завтрак, обед, ужин, на сон грядущий и по любому иному поводу, остров личной независимой жизни, приютив ее под столешницей.
* * *
Я похожа на бабушку. Взять бы ее фото и вклеить в паспорт — никто бы не усомнился. У меня бабушкино тело и бабушкина пластика, её рослость и прочая сопутствующая жизни стержневая фактура. И это мои руки лежат на амбарной книге. Даже перекрашенный из-за пятен в черный цвет одежный не-совсем-шипортреб, отданный мне когда-то раздражительной подругой за несметные излишние тряпки, перекочевавшие в её гардероб, я перешила почти в то же, что на фото, надставив, правда, по своему творческому безумию то перекрашенных в сутемки вафельных полотенец, то черной по черному вышивки, то бахромы. И совсем не потому позже шокировала в этом фольклорном балахоне челябинскую промзону, что сильно хотела дымы впечатлить, и даже не оттого, что было в моей жизни это бабушкино фото, а удобно быть собой получалось именно в объёмном черно-полотняном конусе. Который совсем не украшал мне тяжелой фигуры, но почему-то именно так мне и было правильно. И на первую приснопамятную феминистскую тусовку явилась в этом чёрном колоколе. И поплыла самостроком-самокрасом среди тьмы черных женских пиджаков. И на вторую… и больше феминизма в моей жизни не стало.
Про бьющие горшки можно и не поминать. Хотя последние годы надоела разлетающаяся в клочья посуда, и приспособилась её предохранять прямо у пола. То есть роняется она как всегда — по любому поводу. Но биться практически перестала. Процесс трудно объясним, тут главное — что-то внутри успеть такое схватить мыслью как рукой, и даже не мысль это, пожалуй, а мгновенное пожелание «Стоп!», и чашка-тарелка, только что откувыркавшаяся по всем бытовым углам, вдруг благополучно слагает себя ну вот ровнёхонько на самую хрупкую свою грань немыслимо целой.
Справа - бабушка, слева - её мама, моя пра.
* * *
Мы с моей бабушкой сначала стали ровесницами, теперь ещё совсем немного, и я уже её бабушка — я её уже пережила на пятнадцать лет.
Никаких астральных контактов с ныне покойной родней у меня не было никогда. Или я этой связи не слышу. Хотя... мне ведь нравится копать. И земля под моей лопатой, бывает, что и светится нутряным своим сиянием. А ведь дед-то был грабарём. Да и бабкины стихи-горшки... если подумать...
Но пусть каждый делает своё должное как разумеет и где по праву находится. Та — уже Там, эта — где пока еще может.
Но если б у меня была дочь, я бы назвала ее Анной.
Дочери у меня нет, как нет и сына.
Иногда мне хочется удочерить в себе свое прошлое, которое всю жизнь воспринимаю как собственного ребенка, которого надлежит все-таки поставить на ноги. И обозначить бабушкиным именем.
Мы с моей бабушкой сначала стали ровесницами, теперь ещё совсем немного, и я уже её бабушка — я её уже пережила на пятнадцать лет.
Никаких астральных контактов с ныне покойной родней у меня не было никогда. Или я этой связи не слышу. Хотя... мне ведь нравится копать. И земля под моей лопатой, бывает, что и светится нутряным своим сиянием. А ведь дед-то был грабарём. Да и бабкины стихи-горшки... если подумать...
Но пусть каждый делает своё должное как разумеет и где по праву находится. Та — уже Там, эта — где пока еще может.
Но если б у меня была дочь, я бы назвала ее Анной.
Дочери у меня нет, как нет и сына.
Иногда мне хочется удочерить в себе свое прошлое, которое всю жизнь воспринимаю как собственного ребенка, которого надлежит все-таки поставить на ноги. И обозначить бабушкиным именем.
Продолжение будет.
Подписаться